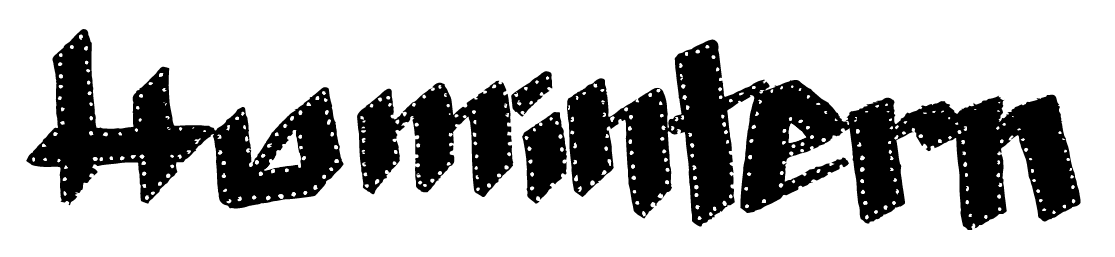О новом грязном модернизме
Кафка, Фрейд, Долар и Данишевский

Проследим путешествия одного качества, антропологически имманентного, известного как один из семи смертных грехов в католичестве и православии, у нескольких авторов в одной только линии мысли; назовем ее психоаналитически-политической. Речь пойдет о жадности (лат. Avaritia), или о «высасывании», «кровожадности» и паразитизме — и о том, к чему эти свойства «прилипают», чему или кому они приписываются.
Маркс считал «волчью жадность» свойством капитала. Слово «высасывание» и его производные употребляются в «Капитале» полтора десятка раз. Речь идет о паразитическом высасывании труда рабочих, взрослых и детей, причем в экономически строгой пропорции, в логике «сообщающихся сосудов»: «Капитал — это мертвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд и живет тем полнее, чем больше живого труда он поглощает».
Нетрудно заметить, что жадность связана с умиранием; ее роль — усиливать мертвое в ущерб живому. То есть имеется в виду такая жадность — опустошающая, умертвляющая, — а не какая-нибудь «жажда жизни».
Жадности как феномену общественной жизни соответствует бессознательная жадность как онтологический компонент психики. В психоаналитической теории Мелани Кляйн жадность или «уровень жадности» — одно из «врожденных», заранее заданных свойств индивида, один из модусов ранних объектных отношений и одно из аксиоматических понятий ее психоаналитической теории: «Жадность — это страстная и ненасытная тяга, превышающая то, что субъекту необходимо и то, что объект способен и хочет дать. На бессознательном уровне жадность направлена в основном на то, чтобы вычерпать, высосать досуха и сожрать грудь: то есть ее целью является деструктивная интроекция», — пишет Кляйн в своей итожащей работе «Зависть и благодарность » (1957).
Но функционально жадность в ее теории — это просто оператор, вроде логических. Его значение определяется как «то, что препятствует насыщению». Жадность, по Кляйн, может служить одним из препятствий к интроекции «хорошей груди» и ее сладкого содержимого, служащих успешному установлению «хорошего объекта», который, в свою очередь, является основой будущего Эго младенца. «Сильное Эго» означает возможность переносить фрустрации (голод, боль, любое неудовольствие и раздражение) без разрушения способности к самоощущению «Я». В самой глубине этой психоаналитической матрешки находится сущность человека, некая сердцевина Эго, самость, тень от интроецированного когда-то «хорошего объекта». Это «сильное Эго» — опустим сейчас очевидные минусы этой формулировки — как раз исключает возможность в один прекрасный день проснуться кем-то другим.
Этот тезис пригождается нам сегодня, когда мы сталкиваемся с появлением новой формы субъектности: профилей в социальных сетях (соцсети — новая топография, местность, где происходят все значимые обряды от рождения до смерти), поэтому проблематика сохранности «Я», в том числе и защита от своей или чьей-то жадности, в цифровом капитализме должна рассматриваться в связи с особенностями наличествующей общественно-политической формации.
Можно ли сегодня ставить вопрос о высасывании, жадности, паразитизме, о природе новых общественых отношений так, как его ставил Маркс, — или же это уже новый цифровой, семейный, симбиотический и даже психоаналитический капитализм? Сегодня, когда наши пищевые привычки превратились в цифровые — каждый день утром и вечером мы пьем дигитальное молоко соцсетей — кто на ком паразитирует, мы на цифровом капитализме или он на нас? Мы не можем сделать шагу так, чтобы Большой Другой об этом не узнал; даже наши фантазии — и те заперты в окне видео порносайтов.
Современная философия чувствительна к этой тематике. Так, о колонизации капитализмом нашей психики пишет Марк Фишер: «Капитализм заполняет все горизонты мыслимого. Джеймисон обычно с ужасом рассказывает о том, как капитализм проникает даже в бессознательное. Теперь же тот факт, что капитализм колонизовал сновидения всего населения, настолько самоочевиден, что его не стоит даже специально обсуждать». В неолиберализме некое безличное существо, например, бюрократия, осуществляющая контроль, в том числе биополитический, приобретает киберготические очертания. В своем труде «Капиталистический реализм» (2009) Марк Фишер пишет: «Описание капитала, выполненное в предельно готическом стиле, — самое точное. Капитал — это абстрактный паразит, ненасытный вампир и производитель зомби. Однако живая плоть, которую он преобразует в мертвый труд, — это наша плоть, а производимые им зомби — это мы сами».
Грегор Замза — картонная мишень для упражнений философов, созданный Кафкой как идеальный экран для проекций — сбегает от капитализма, попадая в… капитализм. Он просыпается в иную, чем ранее, систему угнетения: до пробуждения он был эксплуатируемым, у него был хозяин фирмы, ответственность за семью — а теперь, можно сказать, у него есть «базовый доход» и социальное жилье, но он по-прежнему бессилен и расчеловечен. Он — членистоногое, но если бы он жил сегодня (и имел профиль в фейсбуке), этого бы никто не заметил.
Его история — это история о человеке, которого поглотила жадность: жадность как неспособность насыщаться и отдавать вовне продукты своего труда, неспособность к общественному обмену, к деятельности и благодарности другим людям. Проснувшись, он чувствует желание спать дальше — но не может. Он не способен перевернуться на любимый правый бок и заснуть. Он чувствует голод — но постепенно теряет способность поглощать пищу; он держит ее во рту, а затем выплевывает, а часто еда и вовсе остается нетронутой. Он становится обидчивым и раздражительным, даже агрессивным, пытается напасть на служанку, недоволен осуществляемым за ним уходом, забирается в самые грязные, не убранные места в комнате в знак немого упрека…
Он превратился в насекомое — но остался ли он человеком?
В гуманистической и либеральной традиции мысли такого вопроса мы задать не можем: мы ведь не спрашиваем, человек ли аутист. Разумеется, Грегор остается человеком — только запертым внутри жучьего тела. Ведь, кажется, главное, что он сам ощущает себя человеком, мыслит, чувствует, воспринимает окружающих — правда, часто только как помеху своему «ничто»: времяпрепровождению, сводящемуся, в общем, к ничегонеделанию. Вправе ли мы предъявлять подобные претензии жуку?
К жуку или к человеку?
Скажем так: он думает, что он человек. Ему сказали, что он человек; его интерпеллировали как человека; еще недавно он входил в качестве человека в систему общественных и семейных связей под названием «капитализм». Психическая болезнь, собственно, и определяется сегодня только как неспособность удержаться в системе общественных связей — но Грегор полностью выпал из социальной жизни. Его родственники не зря хотят позвать врача: Грегор — как и пишет Кафка — заболел. Правда, все оказалось серьезнее, чем легкое головокружение, которое мнилось ему самому в качестве причины того, чтобы не открывать дверь посланнику фирмы — и тут вновь намек на жадность: Грегор не явился на работу как раз когда у него на руках оставалась выручка, деньги фирмы.
В результате опустошающей работы болезни у Грегора осталось несколько сантиментов, которые маркируют его для нас как человека, а точнее — как «больного» человека. Он хочет послушать, как сестра играет на скрипке, обнять сестру, успокоить мать, — и зачем-то выходит из комнаты, до смерти ее пугая. Это уже перверсия: он знает, что он жук, и что от одного его вида мать хватит Кондратий, — но в то же время как бы этого не знает этого. Иногда он мечтает снова взять в свои руки дела семьи… Грегор удерживает в своем сознании два взаимоисключающих представления без решения вопроса об их противоречии — схема перверсии. Жадность — его «младенческий» грех; грех взрослого Грегора — в том, что он совершенно не знает себя.
Он — насекомое, обладающее душой, которая ему самому темна. Эта «насекомая» позиция тоже кажется чем-то в культуре и языке вполне знакомым: дискуссии о том, есть ли душа у женщин и у негров, или о том, является ли «дегенеративное» искусство искусством, или о том, могут ли геи заключать браки, еще свежи в нашей исторической памяти. Является ли нечто исключенное частью общей картины на тех же правах, что и остальные части? Можем ли мы выносить амбивалентность? Может ли мертвое, отсутствующее, иное входить в живое? Может ли насекомое жить в квартире? Ортодоксальные квартиранты семьи Замза считают, что нет: либеральная логика здесь не срабатывает. Формалистский подход, заключающийся в том, что Грегор — «все равно человек», наверняка показался бы им, с их мощной философской традицией длиной в несколько тысячелетий, редукционистским. Сестра Грегора, которая приносит ему еду и убирает его комнату — тот самый «пролетарий» — распознает в нем своего классового врага, угнетателя, который высасывает ее жизнь, обращает время вспять, не давая семье развиваться.
По Кафке, единственный способ перестать быть жертвой огромного вампира — это превратиться в насекомое и тем самым снять с себя ответственность, которую повесило на тебя устройство мира, которое мы называем капиталом. Но Кафка показывает нам, что, «выламываясь» или даже «выпиливаясь» из этого устройства мира, ты сам становишься вампиром. Раньше отец Грегора был немощным и паразитировал на семье — а теперь Грегор будет паразитировать. Совершая это мстительное превращение, становясь в занимаемую раньше отцом позицию жертвы, Грегор сам становится паразитом, фишеровским «вампиром». И потому его сестра рассуждает совсем не гуманистически: «Мы должны избавиться от него, — говорит она, — Это не Грегор».
Младен Долар посвящает «Превращению» Кафки эссе «Самый рискованный момент»; он пишет, что момент пробуждения Грегора Замзы — это «перевернутая интерпелляция», мгновение, когда реальность не опознается в качестве своей и когда невозможна самоидентификация. Долар связывает этот момент «до смысла» с пробуждающим сигналом модерности (эссе посвящено 1913 году, когда было написано «Превращение»). Но сейчас, в России 2018-го, мы находимся скорее в точке антиинтерпелляции: во времени Кафки это минута, когда Грегор перестает интерпеллироваться: в самом конце новеллы, когда сестра, которая все время болезни интерпеллировала его как Грегора, антиинтепеллирует его как «не Грегора», попросту отрицает. Это довольно интересная точка, в которой невозможно ни идти дальше, ни даже толком умереть, — конец модерности. Высохшее, опустошившее само себя хитиновое тельце Грегора — не смерть, но сама безжизненность; место, куда жизнь, возможно, и не приходила.
Мы уже знаем, что от нас самих останутся пустые оболочки — некий срез big data, геолокаций, полуавтоматическх интеракций, лайков; бесчисленные отпечатки полностью формализованных существ, которых никогда не существовало.
Бытие, ощущение бытия, — возможно сегодня только через Другого. Об этом, — бессознательно — писал еще Декарт: «Но существует также некий неведомый мне обманщик, чрезвычайно могущественный и хитрый, который всегда намеренно вводит меня в заблуждение. А раз он меня обманывает, значит, я существую <…>». И хотя во времена «Размышлений о первой философии» Большой Другой еще не был обманщиком, сейчас именно ощущение, что тебя обманывают, а вовсе не cogito, является достоверным ощущением собственного существования. Сам по себе Грегор Замза — патриархальный субъект, который ходит на работу и обеспечивает семью — фикция: никто не хочет и никогда не хотел быть этим субъектом самим по себе; никто не хотел фаллологоцентризма. Грегор умирает, когда сестра перестает его обманывать: его не существует — и никогда не существовало.
«Призрак — вытесненное — возвращается в дом в теле паразита, сбросившего свою одежду. Он и не человек, и не нечеловек — Unmensch, и не животное, и не неживотное — Untier», — пишет Оксана Тимофеева в статье «Животные, которых не звали», во многом построенной на анализе «Превращения» Кафки. Конкретизируем: вытесненное — это вытесненная жадность. Состояние, вызываемое бессознательной жадностью, — это частичное омертвение психики, высосавшей самое себя, полностью утекшей в фантазию о «высасывании» ее «крови» и мыслей огромным киберготическим вампиром; не нужно разбираться в психоанализе, чтобы увидеть, как тесно могут быть связаны жадность и депрессия.
Итак, жадность овнешвляется Марксом, инроецируется субъектом у Кафки, Фрейда и Кляйн и снова овневшвляется у Марка Фишера, выступающего против патологизации депрессии — и за ее политизацию. Но отметим, что в логике последнего происходит регрессивное движение: ответственность за депрессию, вызванную жадностью, прямо перекладывается на общественный строй; капитал, а не собственно эндогенные причины, вызывают, по Фишеру, депрессию. Это, как мы видим, проекция — основополагающий психический механизм, «ответственный», как считается в психоанализе, за психоз, преследование и, по Фрейду, паранойю, ревность и репрессированную гомосексуальность. С одной стороны, подход Марка Фишера к философскому осмыслению депрессии продуктивен, поскольку он обращает наше внимание на экономическую, социальную и классовую детерминированность заболевания, на его материалистические причины, на его «историчность», и тем самым содержит в себе вскрывающее, детерминирующее марксистское вопрошание. Но с другой стороны, когда мы видим столь явно регрессивную логику проекции и располагание каузальности вовне субъекта — мы вправе задаться вопросом о том, насколько тезис Фишера с психоаналитической точки зрения может звучать регрессивно, инфантильно или, говоря языком Революции, может быть, даже реакционно.
Нам удалось показать, что фигура Жадности, аллегория, переходит в общественные отношения из Бессознательного; вопрос о том, откуда она в нем появилась, права ли была Кляйн и является ли она случайным врожденным свойством человека, неизбежным несовершенством, следствием первородного греха или же свойством, эволюционно необходимым, — это уже психоаналитическая аксиоматика; одна из шести или более ног, которыми психоанализ упирается в философию.
Показав в прошлой главе, что пролетарий жаден, мы не успокаиваемся и, в стремлении избавить левую мысль от, увы, присущих ей идеализации и расщепления, продолжаем психоаналитически, политически и философски исследовать превращения курьера Грегора Замзы, персонажа нам родного, если, конечно, так можно сказать о Грегоре. Попробуем написать это эссе в духе кратких «карточек Медузы» — формат, принятый на сайте medusa.io, излюбленный в современной российской журналистике, как бы призванный объяснить «на пальцах» или «как Василий Иваныч, на картошках» сложные моменты современной действительности, причем в преувеличенно позитивном ключе. Предполагается, что в результате такого объяснения все неясное должно немедленно проясниться, и читатель — добросовестный продукт современного капитализма — пойдет дальше потреблять.
Карточка 1.
Что случилось с Грегором?
Ответ: Он превратился.
Карточка 2.
В кого превратился Грегор Замза?
Ответ: В насекомое. Как установил энтомолог Владимир Набоков, в членистоногое. Точнее не удается определить.
Карточка 3.
В кого-в кого он превратился?
Ответ: В несимволизируемое нечто, чему нет места в культуре.
Карточка 4.
Но я слышал/ла, что он превратился в жука. Почему вы думаете, что жука нельзя символизировать?
Ответ: Вы на правильном пути. Он превратился не в жука, а в женщину. Женщина, по расхожему теперь лаканианскому убеждению, не может быть символизирована вся («женщина не-вся»).
Карточка 5.
А кем он был? Мужчиной?
Ответ: В нулевой части «Превращения», такой ужасной, что Кафка не стал нам ее даже описывать, Грегор обеспечивает всю семью и не наслаждается; путь к наслаждению для патриархального мужчины, которым он мнил себя, заказан. Превращение Грегора в жука — это, по Лакану, симптом, единственный способ наслаждению проявиться.
Карточка 6.
Хорошо. Каковы ваши доводы в пользу его превращения в женщину?
Ответ: Известно, что накануне превращения подсудимый, курьер Грегор Замза, вырезал из журнала портрет прекрасной дамы и поместил этот идентификационный образ в золотую раму; при попытке сестры снять портрет со стены защищал его головогрудью.
Карточка 7.
Как часто люди в истории человечества превращались в женщин?
Ответ: Мы полагаем, что все люди — женщины, но, строго говоря, названию рассказа Кафки «Превращение» (Die Verwandlung) у Фрейда соответствует, конечно же, превращение в женщину судьи Шребера: «Однажды, очень рано утром, находясь на грани между сном и явью, он поймал себя на мысли, что, “должно быть, очень приятно быть женщиной, отдающейся в акте копуляции”. (36) Это была одна из тех мыслей, которые бы он с величайшим негодованием отверг, находясь в полном сознании», — пишет Фрейд. И далее: «Он убежден, что ему дана миссия искупить мир и вернуть ему утраченное состояние блаженства. Осуществить это, однако, он сможет только в том случае, если его предварительно превратить из мужчины в женщину».
Карточка 8.
Почему у Грегора Замзы после превращения в женщину стало 6 ног?
Ответ: Философиня, феминистка и психоаналитик Люс Иригарей в классической для феминистской теории работе «Пол, который не единичен» называет именно множественность основным свойством женской сексуальности, говоря, что «сексуальные органы у женщины практически повсюду». Множественность наслаждения считается женским атрибутом, в противовес мужскому «единичному» фаллологоцентризму.
Карточка 9.
Есть ли еще доводы в поддержку довода о множественности ног Грегора Замзы как атрибута женственности?
Ответ: Да. К примеру, о том, что полов не два, написал огромную книгу теоретик психоанализа, современный итальянский философ Лоренцо Кьеза. Опираясь на психоаналитическую теорию Жака Лакана, он говорит о том, что все субъекты обладают двумя полами: одним — мужским, и Другим. Другой пол — он Другой, но не «еще один другой». Женский пол не может быть сведен к Одному, он представляет собой все остальные «полы» сразу, он всегда остается «другим», и в сумме они никогда не дают два. «Если вы верите, что один пол и другой, складываясь, дают два, — вы верите в Бога», — говорит Кьеза.
Карточка 10.
Что если бы Грегор Замза попал в анализ к Фрейду?
Ответ: Фрейд написал бы случай Человека-Паука (или Человека-Жука).
Карточка 11.
Мы понимаем, что психоаналитики не ставят диагнозов. Какой диагноз поставил бы Грегору Замза психиатр?
Ответ: Не будет преувеличением либо неточностью сказать, что у Грегора депрессия: он не выходит из дома. Как у жука у него со всей очевидностью должны быть подкрылки (как пишет Набоков), — но он не знает об этом и не может летать: здесь Грегор также подобен женщине, не знающей своего тела, не знакомой со своей сексуальностью.
Карточка 12.
Ладно. Кем стал Грегор Замза, превратившись в женщину? У него есть работа, профессия, имя, фамилия?
Ответ: В современной неолиберальной демократии очень трудно идентифицироваться со своим классом, с происхождением, с родиной; прекарность не позволяет идентифицироваться с профессией; для множащихся идентификаций остается лишь сексуальность, которой, как открыл Фрейд, субъект не управляет и которая является результатом бессознательных выборов, последствия каковых сегодня серьезны как никогда.
Карточка 13.
Почему Грегор Замза умер, а не продолжил жить в качестве женщины?
Ответ: Грегор вступил в конкуренцию с сестрой и проиграл в смертельной схватке сиблингов. Здесь значимо не только капиталистическое, но и гендерно-иерархическое измерение патриархата. В семье Замзы, в патриархальной иерархии существа одного пола и/или положения являются конкурентами и ведут друг с другом войну на уничтожение: так, пока Грегор был активен, его отец чах, когда же Замза «заболел», отец воспрял духовно и физически. Конкуренция между сиблингами (Грегором и его сестрой) также носит смертельный характер: именно сестра убивает Грегора словом, и именно ее «молодое тело» в итоге выпрямляется в поезде, в то время, пока из-под пустого хитинового панциря Грегора тихо и безропотно уходит жизнь.
Карточка 14.
Мы все тоже умрем?
Ответ: Мы никогда и не существовали. Мы — виртуальные окаменелости «бывших через Другого», обманутых не другим, но дигитальным Большим Другим.
Карточка 15.
Куда от этого сбежать, в кого превратиться?
Ответ: У Младена Долара в эссе «Самый рискованный момент» это «превращение» Грегора, зависание между сном и бодрствованием, отсутствие жестких «средневековых» цеховых, генеалогических и прочих идентификаций, рассматривается как ключевой момент модерности. Кафка — это, можно сказать, «чистый» модернизм.
Но есть еще подозрение, что сейчас пришло время нового, «грязного модернизма», когда в женщин превратились все. В этом смысле показательна проза Ильи Данишевского и вообще всей «волчековской», «колонновской» (от издательства Colonna Publications) традиции в современной литературе (мы говорим в первую очередь о русской литературе, но в действительности тренд, на который обращает внимание «Колонна», имеет международное значение, и я бы стала говорить о книгах, переведенных и напечатанных в рамках этого проекта, как о множественной, но вполне определенной отдельной традиции).
По слову поэтессы Елены Фанайловой, проза Данишевского состоит из того, что, как кажется ей и, вероятно, покажется многим другим, следует обсуждать лишь с психоаналитиком. Книга Данишевского «Маннелиг в цепях» — это рассказы и стихотворения, рассказывающие историю взросления современного ЛГБТ-подростка; это предельно сексуализированное повествование, где наблюдение сексуальности и вытаскивание истины из микроотношений, традиционно являющиеся узловыми точками именно модернизма, смикшированы с кафкианской чувственностью, бесповоротно и окончательно происходящей под флагом абсурда.
Карточка 15.
Поверит ли герой Данишевского в ваш грязный модернизм?
Ответ: Герой со стеклянной банкой, которую он возит в электричке на несостоявшееся свидание, рассмеялся бы над такой постановкой вопроса. Этот новый литературный субъект уже антиитерпеллирован, недоступен идеологии.
Я бы хотела проблематизировать эту точку — точку, где все смешно и все разваливается, что все структуры непрочны, идентификации пали, наши тела подверглось ожучанию, мы все стали женщинами, а в большом философском Доме Ума (при непосредственном участии философа Оксаны Тимофеевой) завелись животные, которые ранее в нем не водились. Все это конституирует новую общность, которая позволяет переосмыслять традицию с этих вот новых «нанопозиций», с позиций насекомого, с позиции не-существования; это общность под названием Je sui… — и дальше квантор не-существования; общность носителей европейских сверхценностей, расстрелянных ИГИЛ (запрещена в РФ). В этом новом «грязном модернизме» никто ни за что не готов умирать — но если и «да, смерть», — то только за предельный, почти извращенческий индивидуализм; за изъятое из опыта — изъятое как слишком сексуализированное или на каком-то другом основании; за слишком аполитичное; за право быть антиинтерпеллированным, эвтаназийно умервщленным сестрой Грегора — сестрой милосердия. Грегор Замза «не существует» так же, как «не существовало» в Символическом долгие века аутистов, насекомых, чернокожих, женщин. «Превратиться» в «несуществующее» и «несимволизируемое» — это явным образом лучше, нежели чем «жить» в убогой системе выборов, предоставляемых современным неолиберальным капитализмом.
Карточка 17.
Вы о чем, вообще?
Ответ: В некотором смысле все это можно считать имплицитными лозунгами тихо, но неуклонно происходящей сейчас мировой революции женщин.
Литература:
Данишевский И. Маннелиг в цепях. Предисл. Е.Фанайловой. — СПб: «Порядок слов», 2018
Долар М. Самый рискованный момент. Кафка и Фрейд (пер. с англ. И. Аксенова). — «НЛО», 2012, N 116
Кафка Ф. Собрание сочинений: В 3 т. — М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2009. T. 1. C. 287
Жеребкина И. Введение в гендерные исследования. Ч. I: Учебное пособие/ Под ред. И. А. Жеребкиной — Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001
Тимофеева О. История животных. Предисл. С. Жижека. — М.: OOO «Новое литературное обозрение», 2017
Фрейд З. Знаменитые случаи из практики. Пер. с нем. — М.: Когито-Центр, 2007
Chiesa L. The Not-Two: Logic and God in Lacan. The MIT Press, 2016.
Декарт Р. Разыскание истины. Рассуждение о методе. Размышления о первой философии. — М.: Азбука, Азбука-Аттикус. Серия: Азбука-Классика, 2017
Долар М. Самый рискованный момент. Кафка и Фрейд (пер. с англ. И. Аксенова). — «НЛО», 2012, N 116
Кафка Ф. Собрание сочинений: В 3 т. — М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2009. T. 1. C. 287
Кляйн М. Психоаналитические труды в 7 тт. Т. 6. «Зависть и благодарность» и другие работы 1955–1963 гг. — Ижевск, «Ergo», 2007
Тимофеева О. Животные, которых не звали. «НЛО», 2015, №2(132)
Фишер М. Капиталистический реализм. — М.: Ультракультура 2.0, 2010
Елена Костылева — поэт, философ, психоаналитик, в прошлом журналист. Автор двух книг стихов, вышедших в издательстве «Colonna Publications»: «Легко досталось» (1999; подборка стихотворений из книги в 2000 году вошла в шорт-лист премии «Дебют») и «Лидия» (2009, шорт-лист Премии Андрея Белого за 2009 год) и многочисленных публикаций в изданиях «Большой Город», «Афиша», «Афиша-Мир», «Esquire», «Harper’s Bazaar», «Cosmopolitan», на сайтах «Gazeta.ru», «Openspace.ru», Colta.ru и мн. др. Тексты Костылевой вошли в English-language anthology of contemporary Russian women poets (eds. Polukhina and Weissbort, 2005), disAccordi. Antologia di poesia russa 2001–2016 (a cura di Massimo Maurizio, 2018) and Anthologie de la jeune poésie russe: Lauréats et finalistes du prix Début (choix et traduction de Christine Zeytounian-Beloüs), печатались в литературных журналах «Вавилон», «Митин журнал», «n+1», «Modern Poetry in Translation».
Живет в Санкт-Петербурге. Член попечительского совета Премии Аркадия Драгомощенко.